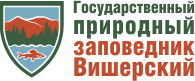Весна глазами орнитолога

Когда много бродишь по лесам и жизнь твоя идет
вместе с пролетными стаями, березами и полевыми
ветрами, начинаешь помаленьку учиться тому
удивительному языку, простому и мудрому, каким
говорят птицы, лопочут листья, шумит вода,
скулит ветер.
Уральский писатель Николай Никонов
Середина мая не баловала теплом. Прежде чем угнездиться в лодке, приходится наслоить на себя немало одежды, да ещё и спасательный жилет сверху. А вода большая, весенняя… Мощный поток несётся навстречу, лодку-челдонку так и болтает в хаосе струй. Стаи свиязей, крякв, чирков-свистунков, хохлатых чернетей поднимаются из береговых зарослей, чтобы, сделав круг, вернуться на прежнее место. Недоверчивы весенние утки к людям…
Неужели уже 15 мая, всемирный день чечевицы! Дорогие читатели, не ищите такой день в календаре, это мой тайный праздник, да вот только виновника торжества нет. Впервые за много лет я не услышал в этот день задорный вопрос: «Витю видел?». На Вишере ли, на Амуре ли – всегда 15 мая. А вот нынче сроки сбились, песни самца чечевицы – лихого красномундирника (с третьего года жизни самцы ослепляют своих сереньких избранниц алым оперением) – нет. Чечевицу на Урале ещё называют черемошником, видимо из-за пристрастия вида к пойменным лесам с черёмухой, а может быть в связи со сроками прилёта, которые часто совпадают со временем цветения этого дерева.
Я уже обосновался на кордоне заповедника Лыпья, и лишь 17 мая чечевицы заявили о себе. Конечно, они прилетели раньше, но дождь, холодно, надо ли торопиться с открытием лета? Может быть, так, стряхивая дождевые капли с перьев, думал самец над вопросом – «петь или не петь?» Что-то я вновь впал в антропоморфизм (антропоморфизм – приписывание животным человеческих черт)… Однако надо ходить, смотреть, фотографировать тех, кто не против.
В свои молодые годы (80-е прошлого века), я, встретившись в начале августа с коллегами на конференции по журавлям в Хинганском заповеднике, посетовал, что нормально считать птиц можно только в конце мая да в июне, а потом они больше молчат. Но солидный орнитолог из Томского университета Сергей Москвитин мне веско ответил, что птиц считать можно всегда. Тезис свой он не расшифровал, но любому ясно, что в «непесенные» времена учёты получаются весьма приблизительными. Мелькнула в кустах зеленоватая пичужка с белёсыми бровями – пишем пеночка Phylloscopus sp., последние две буквы говорят о том, что вид определить не удаётся, выявлен только род. А вот если бы она спела, тогда сразу бы стало ясно: весничка это, или теньковка, или таловка, или зелёная пеночка. Но не будем грустить – весна ведь.
На Лыпье и в миноре, и в мажоре щедро поют аж три дрозда – белобровик, певчий и деряба. Что касается дерябы, то ещё в 2005 г. я ставил границу проникновения этого могучего певца на север Вишерского Урала между посёлками Вёлс и Вая. Теперь же он стал обычен и в заповеднике. Самый массовый дрозд – рябинник – толком петь не умеет, но тоже что-то квохчет. «Дудукают» глухие кукушки (кукование этого вида обычно передают как «ду-ду»), им вторят кукушки обыкновенные, а инспектора заповедника Смирновы трясут мелочью, проверяя, можно ли таким способом обогатиться, услышав первых кукушек.
При удалении в лес интенсивность птичьих голосов снижается, да и самих птиц становится меньше. Ученые давно выяснили, что пограничные биотопы привлекают животных, поэтому на опушках птицы селятся охотнее, чем в глубине леса. Нынче в километре от поляны хутора Лыпья обнаружился певчий дрозд-маргинал: основу его песни составляли звуки, имитирующие крики поползня. С реальными поползнями в районе реки Лыпьи уже давно плохо – по неясным причинам они больше пяти лет здесь не регистрируются. Так что можно предположить, что дрозд решил компенсировать утрату, существенно обеднив свою песню. Для тех, кто забыл, напоминаю, что король песни – певчий дрозд – почти всегда вставляет в свою песню фразу, которую словесно можно передать как «Иди, иди, кум, чай пить, чай пить» и много ещё чего… Парочка снегирей с удовольствием объедает цветущую иву, видимо собираются гнездиться.
Однако ещё идёт пролёт. На Лыпьинской поляне бродят малые зуйки, на затопленном лугу торчит одинокий турухтан с богатым воротником, весёлой гурьбой бегают среди коротеньких побегов купыря рюмы – рогатые жаворонки. Им в Арктику, где они гнездятся, лететь ещё далеко… Через день рюмы исчезли, и им на смену явились другие полярники – краснозобые коньки. Коньки – птицы сложные, в том смысле, что их непросто различать между собой, так же как и пеночек. Но краснозобый конёк опознаётся безошибочно благодаря своему охристому оперению.
Вечерними сумерками на свежую травку из леса выходят зайцы. Они ещё не перелиняли – светятся белыми пятнами.
Наблюдая за пролётом, я ждал: может быть на Лыпьинской поляне появятся золотистые ржанки, как было в мае 2022 г. Но увы – ржанки не являются регулярными гостями хутора, и, видимо, тот май был уникальным.
Однако дни идут. Вода в реках наконец-то пошла на спад, молодая зелень радует глаз. Удивляя своим ранним появлением, 31 мая «притопал» коростель. Коростели в гнездовое время настолько не любят летать, что в своё время возникла байка о том, будто бы они уходят на юг пешком. Её в некоторых книгах даже повторяли некомпетентные писатели. Обычно коростель заводит свою трескучую песнь 4–7 июня. Осталось встретить пеночку-таловку, из пеночек она всегда прилетает последней, а улетает первой.
А всё же как-то маловато птиц относительно прошлых лет. Почему-то нет пеночек-весничек, им в местных березняках всегда было комфортно. Снова почти не встречаются синицы пухляки, московки, поползни… Не самые лучшие времена наступили для Природы.
Однако надо жить, ведь тот же самец чечевицы не задумывается над тем, заводить ему птенцов или нет. Надо заводить, растить и – будь, что будет.
<***>
Жизни игра продолжится, шумная, как всегда,
Под каждую крышу явится радость или беда.
Сегодня с такими мыслями гляжу я на мир земной,
Жадное любопытство сегодня владеет мной.
Нигде ничего ничтожного не видят глаза мои,
Кажется мне бесценною каждая пядь земли.
Сердцу любые малости дороги и нужны,
Душе — бесполезной самой — нет все равно цены!
Мне нужно всё, что имел я, и всё, чего не имел,
И что отвергал когда-то, что видеть я не умел.
Рабиндранат Тагор
Василий Колбин, к.б.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ "Государственный заповедник "Вишерский"